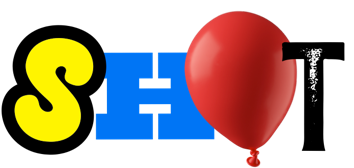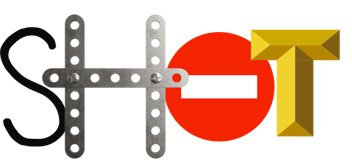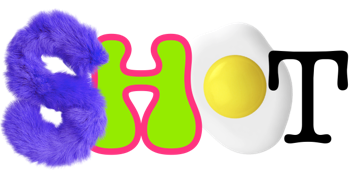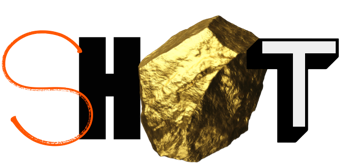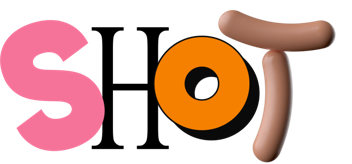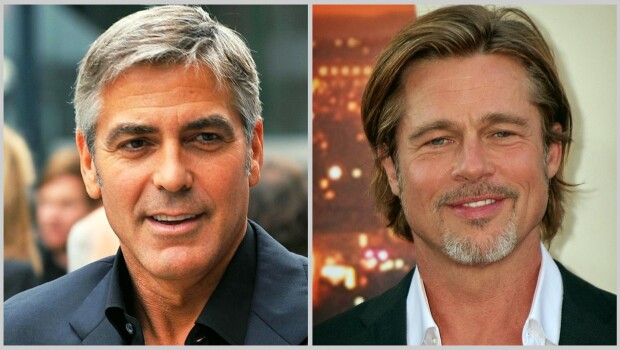Об экранизации малоизвестного романа Льва Толстого
Несмотря на бережное отношение к первоисточнику (критики уже отметили скрупулезную работу режиссера, актрисы и сценаристки Стаси Толстой с диалогами, в которых герои буквально говорят словами из романа), интонационно картина получилась совершенно не толстовская. Постмодернистский подход не столько к тексту «Семейного счастия», сколько к визуалу и музыке, сделал ленту похожей не то на нарезку картинок из позднего Чехова с его нелюбовью к скуке дворянской жизни, не то на цитацию зрелого Бунина, метко подмечавшего тонкости зарождающейся любви. А вылезающая в середине фильма неуместная и плохо работающая булгаковская фантасмагоричность и вовсе приводит в недоумение.

Лев Толстой и его «фиялка»
Впрочем, сказать, что конкретно стало причиной такой путаницы, трудно. Недостаток опыта («Семейное счастье» — вторая режиссерская работа Толстой), желание внушительного продюсерского состава позаигрывать с современным «насмотренным» зрителем или же сам роман?
Написанный от лица девушки довольно молодым человеком (Льву Толстому на момент было всего двадцать девять лет, он только прославился и многое о себе думал) текст значительно отличается от известных работ классика, проповедующих привычную нам со школы «мысль семейную».
В этом романе Лев Николаевич, скорее, только нащупывает одну из своих главных тем. К тому же поводом для сюжета послужила реальная история. В 1856 году Толстой был влюблен в двадцатилетнюю Валерию Арсеньеву и даже хотел на ней жениться, о чем много писал девушке в назидательных письмах. Увидев же ее в глупом блеске столичных балов, быстро разочаровался и примерно за год поставил в отношениях точку. Поэтому не удивительно, что основной мотив этого произведения — скука и некоторая пустота главной героини, понимающей счастье как состояние перманентное.
После похорон матери семнадцатилетняя «фиялка» (так называет девушку ее опекун, друг отца и будущий муж Сергей Михайлович) Маша затосковала в родном имении. Но не потому, что переживала смерть родителей, а из-за траура, отложившего ее выход в свет. Дальнейшее развитие отношений с соседом, сближение с ним, замужество, а также погружение в столичную жизнь отмечены этим то затухающим, то вновь вспыхивающим чувством. Маше не интересно ни рядом с мужем, ни в семье, ни на балах. Да что там, для нее в принципе все мужчины одинаковы, а их внимание равно приятно. Однако сказать, что автор осуждает девушку, тоже нельзя. В своем романе он лишь намечает пунктиром то, как разное понимание «семейного счастия» может разрушить жизни сразу нескольких людей.

«Семейное счастье» Стаси Толстой
В картине Стаси Толстой этой разъедающей скуки нет. Безусловно, ее Маша (честная дебютная работа Евгении Леоновой) тоскует в отсутствии Сергея Михайловича (Евгения Цыганова). Сначала она ждет его как друга, потом, будучи женой, остро переживает отъезды мужа и пребывание в доме его деспотичной матери (лаконичная, но яркая роль Ирины Розановой). Кстати, не совсем понятно, зачем ладное старинное хозяйство маменьки Сергея Михайловича Стася Толстая превратила в Содом и Гоморру (токсичные распущенные слуги и хозяйка-вдова среди них, точно черная паучиха). Очевидно, по мнению режиссера, этот краткий эпизод должен объяснять несложному зрителю перемену Машиных настроений: попадая в Петербург, девушка отворачивается от любящего мужа, с головой бросается в светскую жизнь и не то планирует, не то все же крутит (аллегория с утопанием в бассейне считывается не до конца) роман с маркизом (Владислав Ценёв).
«Святой Георгий»
Во многом смысловую неоконченность многих эпизодов компенсирует работа Евгения Цыганова. Пожалуй, только его игра и добавляет картине недостающих полутонов.
Сергей Михайлович — человек поживший, имеющий за плечами «блестящее» петербургское прошлое. Однако юную Машу он любит очень искренне и открыто, что, впрочем, не мешает ему иногда наставлять девушку, а порой и быть с нею жестоким. Он цельный, живой, ранимый и оттого довольно опасный. Цыганов представляет нам по-настоящему зрелого мужчину, который правильно оценивает риски, умеет прощать, но при этом способен наказать любого за оскорбление. Недаром эта работа была отмечена на ММКФ-2025 и принесла актеру серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль.

Свет, цвет, звук
В остальном же картина оставляет смутное впечатление. Операторскую работу Тима Лобова, включающую не только тщательно выстраиваемые кадры, необычные проходы камеры, интересные склейки, но и занятные упражнения с цветовой и световой палитрой несколько портит желание режиссера осовременить картинку. Панорамные выверенные кадры деревенской жизни сменяются клиповой нарезкой Петербурга, главный бал превращается в танцевальный номер а-ля «Тодес», а кадры с бассейном, очевидно, вставленные в фильм только для того, чтобы критики и любители Толстого возмутились: «И это в XIX веке!», разрушают главную визуальную линию.
Вообще, в картине очень много странных заигрываний со смертью. То Маша прикидывается утопленницей, то сцена женитьбы, происходящая почему-то в разрушенной церкви, напоминает отпевание, то демонический маркиз, подобно Воланду, захватывает героиню, как бы намекая нам на ее моральное падение. «Как бы» — здесь важное понятие, потому что ни одна из этих линий не приводит героев ни к настоящей, ни к духовной гибели. Складывается впечатление, что Стася Толстая намеренно оставляет пустоты, «насмотренный» зритель сам все додумает за режиссера.
Музыкальный фон — вернее, некий творческий микс из темы группы «Браво», сонат Моцарта и специально написанного Олегом Трояновским саундтрека для фильма — существует будто отдельно и плохо перекликается с происходящим на экране.
Но при всех недочетах и явной нехватке акцентов, картина все же ставит главный вопрос: что такое семейное счастье, возможно ли оно без боли и деформации друг друга?..